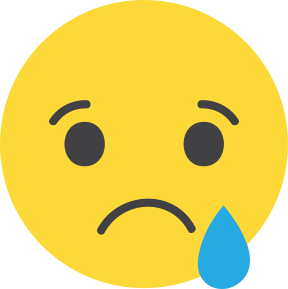Слева направо: Иван Тищенко, Арсений Лис, Степан Миско. Минск, 1969 год. Фото из семейного архива Арсения Лиса.
Было это в сентябре 1973 года. Называю время, поскольку все же не обыденная и не меня одного тогда ожидала подобная история.
Как раз накануне я побывал на Академической, 15, где уже который год в специально построенной пятиэтажке работал коллектив ученых над созданием первой белорусской энциклопедии. Зайти же, как обычно, нужно было для того, чтобы отнести заказанный сотрудниками энциклопедии текст, вычитанную корректуру.
На то время я радостно-искренне увлекся жизнью и работой ученых, культурных и некоторых общественно-политических деятелей, личностей светлых, талантливых. Написал уже несколько таких очерков-портретов, опубликовал две монографии. Вообще же в энциклопедическом издании — этом авторитетном, репрезентативном паспорте нации — было важно наиболее полно осветить деятельность белорусского народа на протяжении тысячелетней его истории, вкратце подать достижения белорусской мысли.
В тот день я направлялся в редакцию литературы БелСЭ. В ней тогда работали Янка Соломевич, Валентин Рабкевич и Михась Шавыркин. Застал одного только Вальку Рабкевича, который сразу, с порога, встретил меня вопросом:
— Янка тебе ничего не передавал?
— Нет, а что?
— Вызвали в КГБ. В разговоре упоминали и тебя. По-видимому, могут вызвать…
Я не успел расспросить, почему вызвали, что спрашивали. В комнату вошел сотрудник соседней редакции по какому-то для него неотложному делу.
Назавтра с утра выхожу на работу в институт — и тут звонок и приглашение-приказ мне прийти в Комитет госбезопасности. Спрашивать, зачем именно, в силу серьезности данного учреждения не приходилось. Одно только сказал, что могу прийти на следующий день, с чем незнакомый абонент без заминки согласился.
У входа со стороны улицы Комсомольской в презентабельное здание на проспекте (о нем говорили, что оттуда далеко видно) службист в штатском выдал пропуск и повел куда-то вверх — на второй или третий этаж. Вскоре оказались в вытянутом узковатом кабинете. Благожелательно-вежливо я был приглашен сесть и оказался за столом лицом к лицу с человеком, который представился по имени и отчеству.
С первых его вопросов понял, что «прощупывается» круг моих друзей, близких знакомых. Признаться, сразу не сориентировался в цели приглашения меня в это, что ни говори, непростое, солидное учреждение. Один из более менее конкретных вопросов был про Владимира Короткевича. Я многословно стал распространяться о творчестве любимого своего автора, субъективно отдавая предпочтение его поэзии, делая некоторые замечания по прозе: мол, иногда допускает совмещение событий во времени. И ничего как о человеке, друге.
Позже узнал, что Володя, когда его спросили об отношениях с Ар. Лисом, высказался остроумно, в контексте ситуации и почти афористично: «А что у нас с Лисом может быть общего: я пью, а он не пьет?» Мне же такого остроумия не хватало в той ситуации, хотя чувствовал себя совершенно спокойно. При этом, не ощущал за собой никакой вины, которую можно было бы квалифицировать как некий криминал. А во-вторых, неожиданно представилась возможность подстраховать себя на случай излишнего нервного напряжения — все же вызвало ведомство неординарное.
После Короткевича мой визави спросил про Степана Миско. Мелькнули в голове Степины публичные заступничества за белорусский язык, которые он проговаривал с горячностью, торопливо. Вспомнилась напетая им частушка:
Я нікога не баюся:
Я на Фурцавай жанюся…
Для сыскного ведомства, наверное, не были секретом и Степины анекдоты. Иногда прилюдно Степан мог рассказать, например, такой из них. Не знаю, сам придумал или в народе слышал, записал, запомнил. Приблизительно так, помнится, рассказывал Степан. «Если бы сто озер — в одно озеро, а сто растущих над ним дубов — в один дуб. А сто пил — в одну пилу, и срезать ею тот огромный дуб — то вышел бы большой плюх!» Конечно, кто-то где-то мог усмотреть в этом незатейливым тексте двусмысленность, посчитать, что анекдот метит прямо в главную идеологическую мифологему политической системы государства, где на словах строился, или уже даже был построен, самый передовой общественный строй, единственно способный осчастливить все человечество.
Естественно, в ходе необычного нашего разговора-собеседования у меня мелькнула мысль, что надо как-то оправдывать друга перед спецслужбой, которая явно собирает зачем-то компромат. Говорю, что Миско — человек с юмором. Он таким действительно был по натуре своей. Я это почувствовал с первого нашего знакомства.
Потом говорю, что иногда он мог быть недостаточно серьезным в своих высказываниях. Напоминаю, что в войну помогал старшему своему брату-партизану в сборе сведений про врага.
Не помнится, чтобы у меня в тот раз что-то спрашивали про Михася Чернявского. Возможно, «компроматные» сведения о нем уже к тому времени собрали. А может быть, просто услышать то, что им было нужно, от меня не надеялись.
Позже Михась рассказывал, что на допрос в КГБ его забрали утром из дому. По пути в автомобиле он — рассказывал об этом с улыбкой — так разговорился… Позволил себе дискутировать с кагебистами?
Доставленный в здание Комитета госбезопасности, Михась, когда его спросили про Лиса, многословно стал рассказывать, как Ар.Лис одержим поэзией Александра Блока, читает наизусть его стихи и рассказывает о творчестве поэта. Тем самым Михась указывал своим необычным оппонентам, что его друг не какой-нибудь национально ограниченный товарищ: читает и пропагандируют не Янку Купалу, Максима Богдановича или Алеся Гаруна, а русского классика.
Я действительно в ту пору был увлечен этим выдающимся русским поэтом-символистом, его умением передать в поэтическом слове сиюминутное душевное движение-настроение. Подкупала чеканность строк, строф блоковской лирики, ее смысловая наполненность, метафорика. Хотя бы взять стихотворение Блока о своем поколении:
Рождённые в годы глухие,
Пути не помня своего,
Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы,
Безумство ль в вас, благая весть?
От дней борьбы, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть.
Или:
Вновь весна без конца и без края.
Без конца и без края мечта.
Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита.
Наше специфическое «собеседование», по-видимому, прослушивалось, фиксировалось где-то в соседней комнате. Мой следователь, назовем его так, возвращался от шефа с каким-то новым вопросом. Сам же шеф не показывался. Только в конце на минуту приоткрыл было дверь, наверное, чтобы взглянуть на допрашиваемого. После того как дверь закрылась, я высказал в его адрес комплимент: мол, внешностью напоминает известного народного артиста. Собеседник мой никак не реагировал на бестактность. Правда, и в дальнейшем оставался достаточно вежливым, внимательным.
На отход, подавая с вешалки мой болоньевый плащ, неожиданно обратился с вопросом:
— Вы всегда разговариваете на белорусском языке?
— А что?.. Уже и нельзя? — резко говорю ему.
— Нет, нет! Можно, — как-то взволнованно заторопился уверить меня товарищ из Комитета. И тогда в продолжение диалога «можно-нельзя» я как-то спонтанно очерчиваю свою позицию в отношении родного языка, права на него:
— Сыну моему пока еще чуть больше месяца. Подрастет — буду разговаривать с ним по-белорусски. Научу, чтобы знал, помнил, кто мы и кем испокон были наши деды-прадеды.
— Правильно, правильно! — почти горячо, но не думаю, что очень искренне, поддержал меня товарищ из Комитета. Не та задача стояла тогда перед ведомством, той структурой, в которой он работал.
* * *
Генсеком КПСС Никитой Хрущевым уже были конкретно определены время, дата, окончательного построения в СССР коммунизма. Агитпроп информировал о сформировавшейся в 1/6 части мира новой общности «советский народ».
Как бы невзначай, постепенно проводилась идея-подсказка о необходимости перехода писателей союзных и автономных республик в их творчестве на русский язык. Идея о переходе писателей Союза на один «общедоступный язык» и вызвала резонансную инвективу знаменитого советского поэта Расула Гамзатова:
…И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть!
Стихи авторитетного писателя получили широкий отклик в среде творческой интеллигенции всей страны. Упоминались, цитировались в полемических выступлениях в печати и устных.
Тем временем переход на русский язык кое-где стали практиковать. И это было как бы естественно, логично. При коммунизме люди должны будут пользоваться одним языком, монолитно объединяющем однородную человеческую общность в ее работе, жизни. А как иначе?
На того же белорусского интеллигента, который не понимал общей идеологической доминанты эпохи, можно было взглянуть и не без подозрения. Придерживается языка своего народа — значит, не согласен с партийно-государственной доктриной, установкой на слияние наций, наступление эры коммунизма?..
Думалось, припоминалось мне это, конечно же, не тогда, в осень 1973 года, когда выходил из здания на проспекте, откуда годами вывозили белорусов в клятую предками Сибирь или сразу в Куропаты.
* * *
Из КГБ я вышел не запуганным, без ощущения подавленности, но, конечно, озадаченным. Не было ясности относительно мотивации вызова и самого допроса. Подумалось, что, может, ради профилактики все это. Мол, будешь знать, что ты у них на виду, под контролем. Будешь поосторожнее. На самом деле, сильно не задумывался…
Как-то не пришло мне в голову сразу соотнести вызов в КГБ и постоянный прессинг с его стороны при издании моих книг о белорусских ученых и культурных деятелях.
Изданная в 1966 году первая моя книжка «Бронислав Тарашкевич» была благосклонно принята учеными, писателями и еще живыми бывшими участниками национально-освободительного и революционного движения бывшей Западной Беларуси. Последним же личность Тарашкевича, организатора и руководителя загубленной сталинским режимом стотысячной Белорусской крестьянско-рабочей громады 20-х годов была особенно близкой, дорогой.
Поданную в то же академическое издательство мою заявку на книжку про первого историка и теоретика белорусского искусства Н.Н. Щекотихина на последней стадии утверждения плана изданий главный редактор Георгий Юрченко вычеркнул. Узнал я о том от издательской сотрудницы, бывшей своей университетской однокурсницы.
Обращение к директору издательства Тадеушу Савицкому помогло книге выйти в свет, кстати, под научной редакцией академика Петра Глебки.
Когда же спустя два года повторилась подобная история с моей книгой «Пётра Сергиевич» (художнику, который начиная еще с западнобелорусского периода плодотворно работал над произведениями по теме исторического прошлого Беларуси, исполнилось 70 лет, и был повод отблагодарить его за большой вклад), то нечиновный, в принципе доброжелательный Тадеуш Савицкий сказал: «Браток, не могу. Иди выше…»
Арсений Лис, мемуары: «Группа Прашковича» и дело белорусских националистов. Часть 2
Арсений Лис, мемуары. «Академическая группа». Часть 3